 Фразеологизмы — пожалуй, одна из самых интересных частей любого современного языка. Существуют идиомы, которые можно назвать параллельными — к примеру, выражение “крепкий орешек” существует в понятном для нас значении на английском и немецком языках. А вот “нем как рыба” лишь на немецкий переводится дословно, в других же языках аналогии проводятся с устрицей (английский), карпом (французский) и просто мертвецом (испанский).
Фразеологизмы — пожалуй, одна из самых интересных частей любого современного языка. Существуют идиомы, которые можно назвать параллельными — к примеру, выражение “крепкий орешек” существует в понятном для нас значении на английском и немецком языках. А вот “нем как рыба” лишь на немецкий переводится дословно, в других же языках аналогии проводятся с устрицей (английский), карпом (французский) и просто мертвецом (испанский).
О переводе фразеологизмов, а также в целом о нелёгкой судьбе переводчика сайту “Британии” в интервью Григорию Аросеву рассказал доктор филологии, автор книг по истории культуры и современного русского языка Гасан Гусейнов.
– Гасан Чингизович, какими языками вы владеете? Мне известно про немецкий, латынь, древнегреческий, трудно представить, что в вашем арсенале нет английского… Не упоминая того, что вы один из лучших знатоков русского языка, что тоже не всем дано. А ещё?
Г.Г.: Активно, хотя и далеко не так, как хотелось бы, я пользуюсь английским и немецким. На трех-четырех языках читаю, а точнее, могу читать специальную литературу или легкую художественную, а латынь и древнегреческий — функциональные языки, то есть они для меня существуют только как письменные.
– Как часто вы сталкиваетесь с проблемой перевода фразеологизмов с одного языка на другой, и что это за языки?
Г.Г.: В позднесоветском и перестроечном публицистическом обиходе вдруг появилось выражение “христианские ценности” без кавычек. В советское время, понятно, публично говорили только о таковых в кавычках. А теперь представьте себе картину. Увлеченный сбором материала о речевом и,так сказать, антропологическом опыте выходцев из СССР в Германии, я в начале 1990-х гг. на общественных началах переводил в синагоге города Бремена. Мой устный немецкий был неважный, но постепенно обогащался, а поскольку работал я в институте, который занимался сбором и анализом самиздата, постепенно из собственного обихода почти начисто вывелась цензура и самоцензура. У моих дорогих и, по большей части, левых немецких коллег я учился не искажать ни чужих, ни собственных мыслей. В синагоге же иногда обсуждались вопросы скандальные, пересекались чьи-то бизнес-интересы, и некоторые сюжеты, которые старые члены общины, евреи из соседней Голландии, например, обсуждали как вполне нейтральные, выходцам из СССР казались фельетонами из советской печати. Весь разговор отдаленно напоминал собрание жилищно-строительного кооператива или кинофильм “Гараж”. В такие моменты народ забывал, что действие происходит в синагоге.
И вот встала впервые попавшая на собрание женщина лет пятидесяти, приехавшая с Украины, где раньше работала учительницей в школе, и говорит такой текст: “Товарищи! Внимательно слежу за ходом собрания и вынуждена сказать свое мнение: я вижу, что здесь утрачены последние христианские ценности!..”
Она сделала паузу, чтобы я мог не торопясь перевести эту тираду. Что я и сделал. В зале поднялся совершенно невероятный гвалт.
Но все вопли перекрыл звонкий голос учительницы: “Ну что же вы переводите то, что я говорю?! Переводите то, что я хочу сказать!”
Ясно, что ее слова о “христианских ценностях” были фигурой речи, и я мог бы, поднатужившись, сказать, что, мол, “утрачены последние ценности” или даже “последние еврейские ценности”. Это было бы как раз то, что имела в виду жертва моего перевода. Но она ведь все-таки сказала “христианские ценности”. И в эту минуту все авантюристы, обсуждавшие возможности нагреть руки на каких-то подрядах, в мгновение ока превратились в верующих иудеев, глубоко оскорбленных в религиозных чувствах.
Подобных эпизодов, иногда душераздирающе смешных, накопилось у меня немало. Частично они опубликованы в книжке “Нулевые на кончике языка”, большая часть пока ждет своего часа.
– Некоторые фразеологизмы абсолютно универсальны и встречаются во многих языках (“тёмная лошадка” — dark horse; “вот где собака зарыта” — wo ist der Hund begraben). Бывают случаи, когда речевой оборот существует много где, но, при смысловом сходстве, на разных языках дословно выглядит по-разному (“проще пареной репы” — а piece of cake; “денег куры не клюют” — Geld wie Heu haben). Возможно ли приблизительно оценить долю “уникальных” фразеологизмов хотя бы в основных языках — то есть тех речевых оборотов, которые возможно перевести только посредством подробного толкования?
Г.Г.: Наверное, можно установить приблизительную долю таких фразеологизмов, то есть даже наверняка. Но тут как с теорией вероятности — каждый раз нужно начинать отсчет заново. Иначе говоря, один-единственный трудный, буквально не переводимый оборот в ключевом месте значит в тексте больше, чем все остальные пассажи. Как ложка дегтя в бочке с медом, и как принцесса на горошине, и как иголка в стоге сена. Это — описания роли, которую идиома играет в тексте, в остальном вроде вполне понятном. Как “Ужо тебе!” в”Медном всаднике”. Или как фольклорные мотивы в “Двенадцати” Блока. Доля идиом, может, невелика, но на них всё держится в русском тексте и почти ничего не держится в переводе. Верны и обратные примеры.
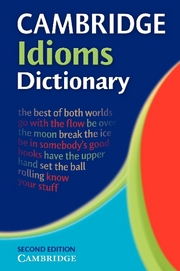 – Хрестоматийный пример — “Мы вам покажем кузькину мать”. Известно латинское Quos ego, но так в простоте по-английски, да и вообще на любом языке, не скажешь — аудитория не поймёт, и если бы у переводчика Хрущёва было бы больше времени, он бы перевёл это более ловко, чем “Мы вам покажем мать Кузьмы” (если эта история вообще не вымысел). Как вы относитесь к придумыванию новых фразеологизмов “на ходу”, то есть в процессе перевода — неважно, устного, письменного ли, и есть ли, по-вашему, у них шансы уйти “в народ” (кстати, “уйти в народ” тоже фразеологизм)?
– Хрестоматийный пример — “Мы вам покажем кузькину мать”. Известно латинское Quos ego, но так в простоте по-английски, да и вообще на любом языке, не скажешь — аудитория не поймёт, и если бы у переводчика Хрущёва было бы больше времени, он бы перевёл это более ловко, чем “Мы вам покажем мать Кузьмы” (если эта история вообще не вымысел). Как вы относитесь к придумыванию новых фразеологизмов “на ходу”, то есть в процессе перевода — неважно, устного, письменного ли, и есть ли, по-вашему, у них шансы уйти “в народ” (кстати, “уйти в народ” тоже фразеологизм)?
Г.Г.: Это интересный вопрос. До интернетной эпохи номенклатура фразеологизмов была проще. Сейчас носитель языка имеет дело с несколькими наложенными друг на друга циферблатами, где на самом дне может быть какая-то народная пословица – вроде “лес рубят — щепки летят”. Но адекватно перевести ее из современного русского обихода на какой угодно другой язык невозможно — с помощью аналогичного фразеологизма же. И все потому, что между народной пословицей и сегодняшним днем залегает советский, сталинский пласт. По тому, как произносит или пишет эти слова сегодняшний русский человек, мы сначала определяем его отношение к предыдущему веку: простым фразеологизмом это уже не будет, не может быть; значит, перед нами не просто пословица, а мем и сталинской и постсоветской эпохи, перекованный частью на путинский “лад”, а частью — как циничное, матерное высказывание, хуже, чем матерное, так сказать. А все почему? Потому что вместо памяти работает постоянно включенная “база данных”. Все циферблаты стали прозрачными, каждый мем резонирует в нескольких эпохах. Связная речь крайне затруднена. “В народ” ушли десятки и новейших, и обновленных старых слов и выражений, аббревиатур всяких. Вот даже ВВП — ведь уже тошнит от обыгрывании этой омонимии валового внутреннего продукта и инициалов главы государства, а деться некуда.
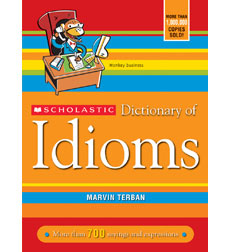 – Переводчики художественных и публицистических текстов нередко сталкиваются с фразеологизмами, которым нет аналогов в русском языке. Что бы вы им рекомендовали — уходить от новаторства и давать то самое подробное толкование, или всё-таки бороться за обогащение, переводя “once in a blue moon” как “когда встает синяя луна”, а не просто “очень редко”?
– Переводчики художественных и публицистических текстов нередко сталкиваются с фразеологизмами, которым нет аналогов в русском языке. Что бы вы им рекомендовали — уходить от новаторства и давать то самое подробное толкование, или всё-таки бороться за обогащение, переводя “once in a blue moon” как “когда встает синяя луна”, а не просто “очень редко”?
Г.Г.: Могу только противопоставить разные традиции перевода. В позднем СССР самой влиятельной традицией было не использовать при переводе недавних заимствований. Например, переводя Плутарха, можно говорить “спор”, “ссора”, “перебранка”, но нельзя говорить “скандал”. А вот в начале ХХ века это все было вполне возможно, и в переводе римского автора, у которого в латинском тексте были греческие цитаты, эти цитаты могли привести в русском переводе — как французские. Конечно, это не точно, но зато живо.
Правда, чтобы придумать новую пословицу, недостаточно ее буквально повторить: это будет просто смешно. Нужно придерживаться каких-то общезначимых рамок. При этом не следует забывать и о расхождениях в значении вполне тождественных слов и выражений. Например, когда немецкий политик говорит, например, “я как женщина”, она имеет в виду иногда и нечто прямо противоположное тому, что имеет в виду российская политическая деятельница. В Германии это будет примерно означать “я как принимающая свою задачу равноправная личность и не желающая играть по правилам патриархального общества”, а по-русски “я как существо хоть и важное (депутатка или министр), но напоминающее всем остальным, что женщине негоже далеко отходить от люльки и плиты”. А ведь произнесли, казалось бы, одно и то же слово — Frau или “женщина”.
Григорий Аросев
Фото Г. Гусейнова с сайта Центра гуманитарных исследований при РАНХиГС.

